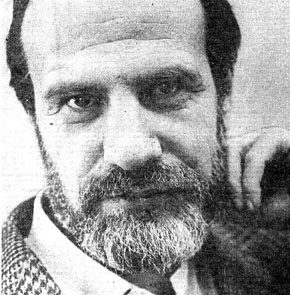 |
КОНСТАНТИН КЕДРОВ:
"Сегодняшняя поэтическая ситуация мне представляется просто невыносимой."
— Константин Александрович, многим читателям нашей газеты Вы хорошо известны как поэт и создатель теории ме-тахода и метаметафоры. Однако не все знают, что Вы имеете отношение и к появлению на свет "Дооса" и "Лонолета". Расскажите, пожалуйста, что же это такое?
— История, связанная с "Доосом", началась уже довольно давно, в те времена, когда я читал лекции по фольклору в Литературном институте, почти невольно говоря студентам о теории мета-кода. Уже тогда там возникла своеобразная поэтическая группа, в которую входили А.Парщиков, Л.Еременко и И.Жданов. Сначала я применял относительно к ним термин "релятивистская метафора", потом — "метаметафора". Слово "доос" пришло ко мне само, и, конечно, тут трудно не заметить вполне явной ассоциации с даосизмом. Но дело не только в этом. "Доос" расшифровывается так — Добровольное Общество Охраны Стрекоз. Нетрудно догадаться, что речь идет о той самой стрекозе, что "лето красное пропела" и с которой так нехорошо обошелся муравей. Доос — это поэтическое направление, что в пику муравью провозглашает лозунг чистого искусства, лишенного той или иной политической окраски. Что же касается "Лонолета", то это совместный сборник, вышедший в 1986 г. в Париже и Москве. В нем приняли участие Е.Коцюба, Л.Ходынская. Р.ЭЛИНИН, А.Цуканов — поэты, не втянутые в соцарт. Надо сказать, что и "Доос" и "Лонолет" создавались в сложной обстановке, когда явственно ощущалось с одной стороны давление тоталитарной военщины, с другой — та же самая враждебность андеграунда, но с другим знаком. Я же вообще враг противостояния, и мне одинаково противны и солдатская песня, и самое тончайшее стихотворение, высмеивающее эту песню, вспомните Фетовское: "Шепот, робкое дыханье" — ВОТ единственное, что остается в искусстве, что в нем ценно...
— Однако, как это ни странно, "чистое", независимое искусство тоже подвергается гонениям, даже в большей степени, чем какое-либо другое. Не кажется ли это Вам парадоксальным?
— Да, действительно, это один из парадоксов нашего времени. Дело в том, что уже в 70-е годы у каждого направления была "своя игра". Так, существовали Егор Исаев и К*, со своими, ярко выраженными, интересами. Они как бы мило-стли во разрешали некоторые вольности Левитанскому, Самойлову и некоторым другим поэтам, с которыми им в основном все была ясно, так как они занимали промежуточную позицию. Но введенный мною в 1983-м году термин "метаметафора" блюстителей советского искусства просто доводил до бешенства. Ведь ОНИ не могли его понять, не видели его связи со "злобой дня" и потому не могли к нему прицепиться. Это выводило их из себя, и последствия такого положения вещей не могли не сказаться. В 1986-м году в ректорат Литературного института пришли два кагебешника и потребовали моего отстранения от преподавания. Началась травля, и к сентябрю я уже не имел доступа к студентам. До этого, в 9-м номере "Нового мира" за 1982 год была опубликована моя статья "Звездная книга, где я впервые смог высказать в печати свои соображения по поводу мета-кода. Вскоре в 4-м номере "Литературного обозрения" за 1984 год появилась странная статья Рафаэля Мустафина под названием "На стыке мистики и науки". В ней разносили книгу В.Сидорова о Н. Рерихе и мою статью. Но как! Сейчас это может показаться страшным сном, но там были, например, такие фразы. "Никаких уступок идеализму! В постановлениях июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС-партия еще раз подчеркнула значение идеологической четкости и точности философских и мировоззренческих критериев в сложной обстановке обостренной классовой борьбы с империализмом на современном этапе "Конечно, во всей этой истории сказались шкурные интересы графоманов, сидевших в Союзе Писателей, и ненависть возглавлявшего идеологию в КГБ генерал, Бобкова к религии и современному искусству.
История с моим отстранением затронула и многих моих друзей и знакомых. Помню рассказ В. Микушевича. В органах его спросили: "О чем Вы говори ли с Кедровым?". Он ответил; "О Данте" "А еще?" На что тот ответил: "Да так обычные глупости". Эти-то глупости и не давали спокойно спать врагам метаметафоры. Говорили даже о том, что ее подбросили из-за рубежа. Подобные paссуждения — архетип, свойственный всем социалистам и шовинистам. Если что неугодно — скажем, что это проклятые иноземцы подпортили — и цель достигнута. Но до чего же это примитивно! На самом деле — и я могу в этом поклясться — метаметафора возникла здесь, в России, в поэзии Парщикова и Жданова, как некое космическое явление. Я был во Франции, достаточно хорошо знаком с тем, что там делается е искусстве, и смело могу сказать — метаметафоры там нет, это такое же уникальное явление, как Собор Василия Блаженного. Такие вещи существуют только на почве менталитета определенного пространства и времени, они неповторимы и не подлежат пересадке.
— Вы говорите о том, что метаметафо-ра возникла в поэзии Жданова, Парщикова и Еременко. С тех нор прошло около 10 лет. Кого сегодня Вы можете отнести к служителям мепшметафоры и в каком отношении они находятся к другим поэтическим школам?
— В чистом виде то, чем мы занимаемся, можно назвать Игрой в бисер. Что же касается других поэтических школ, то я думаю, наша привычка все явления в искусстве укладывать в рамки разных там "измов" во многом обусловлена опять же определенным архетипом мышления. Разве не придуманы многие из терминов советской критикой для того, чтобы чувствовать себя уютнее в мире современного искусства? Говорят о постмодернизме, но разве это правомерно — ведь модернизма как такового в России никогда и не было. Вводить у нас понятие постмодернизма — все равно что заставлять младенца писать мемуары. Интересно, что самих постмодернистских работ у нас нет. — если уж говорить об этом направлении, то только в отношении теоретических трудов. С таким же успехом можно говорить и о постакмеизме. к представителям которого я отнес бы О. Седакову и F.Шварц. Мне кажется, для этой страны постакмеизм явление вполне органическое. Для него, например, характерна ровная строка, хотя выражается это скорее как доминанта. Думаю. По этой доминанте и можно судить о поэте. И.Бродский, кстати, по своей доминанте поэт Петербургской школы, во многом продолжающий традицию В. Ходасевича. Бродский — поэт ровных улиц, тщательно размеренных геометрических городских пространств. Иногда я думаю, что само возникновение Петербурга с его четкой, ровной архитектурой вызвало в России к жизни тот определенный тип мышления, который принято называть классическим разумом.
— А как же быть с проблемой взаимоотношений постмодернизма и авангарда, о которой так много говорится в последнее время?
— Я считаю, что авангард, как мы его понимаем сегодня, — это, в действительности, то, что раньше называлось формализмом, а постмодернизм в России на самом деле — соц-арт. Однако не надо забывать, что сейчас в сферу авангарда включают и явления, совершенно ему чуждые. Разве не сдвиг по фазе и не чернуха, например, всенародное резание свиньи в художественной галерее, выдаваемое за акцию авангардного искусства? Знаете, какие три потрясения я испытал в Музее Бретона во Франции? Первое — картины сюрреалистов оказались по-домашнему малы, компактны, вовсе не так величественны, как это представлялось. Второе — глядя на Дюшановский писсуар, я понял, что в истинном искусстве все единично и именно этот, а не какой-нибудь иной писсуар, является произведением искусства. После Дюшана было много подобного, но все это оставалось пустым повторением, лишенным смысла. Третье — я узнал, что сам Бретон был коммунистом, и мне тогда кое-что стало понятно. Я и раньше сердился на Межирова и Рейна, когда они сравнивали футуристов и большевиков, говоря об их страсти к разрушению формы. До какой же степени это неверно! Ведь все тоталитарные режимы враждебны авангарду, так как в нем есть свобода, а именно она так ненавистна любому тоталитаризму. Парадокс, но в осуждении авангардистов, или формалистов, коммунисты смыкались со своими ярыми противниками — И. Буниным. Н. Гумилевым и прочими. Авангард в этом отношении всегда более хулиганство, а постмодернизм — то, что вписывается в определенные рамки, если хотите, то. что получило признание. Скажем, газета "Гуманитарный Фонд". Сегодня она представляется мне газетой авангарда. Однако предположим, что ее начали издавать в Нью-Йорке массовым тиражом и ее ценность всенародно признал Иосиф Бродский. — тут же она превратится в явление постмодернизма. Или "Яма" Дюшана: в контексте европейской культуры это постмодернизм, в контексте же нашей — авангард.
— А что Вы можете сказать о скандально известной "Мулете" — что это, по-Вашему, только эпатажный журнал или нечто большее?
— К "Мулете" у меня особое отношение. Мне кажется, что это первое и единственное издание, которое по новизне никто еще не смог перекрыть. Толстый — гениальный издатель. Первые номера его журнала произвели впечатление, подобное шоку от сборника "Пощечина общественному вкусу". Увы — после 1988 г. "Мулета" уже не заслуживает внимания. Дело в том, что ситуация изменилась, а издание осталось прежним. На фоне всеобщей дозволенности его эпатаж уже не имеет смысла. Иными словами, изменилось то, что ничего не изменилось. После же августовского путча для этого издания наступил кризис жанра. Такова харизма времени — в ситуации недозволенности и вседозволенности одно и то же явление принимает противоположный характер. Представьте себе простолюдина, который приходит в аристократический салон и видит, что господа ругаются матом. Тогда он тоже начинает материться попадает в дурацкое положение. По-моему, в такой же роли выступила и ваша газета, когда напечатала статью "Святая задница". Это выглядело так, как будто простолюдин старается подражать господину. Надо было сделать вид, что ничего не произошло. Однако бурная реакция со всех сторон на этот материал изменила ситуацию — как только статью стали критиковать и ругать — она, а вместе с ней и вся газета, приобрели резко выраженный авангардный характер. Где-то здесь проходит неуловимая грань, которая и отделяет искусство от Бессмыслицы и безумия, как в случае с юродивым, что снимает в храме штаны.
— Константин Александрович, мы сейчас делаем номер, посвященный проблеме массовой культуры. Где, по-Вашему, проходит граница, отделяющая элитарное искусство от массового? Есть ли какие-либо промежуточные стадии или случаи, когда первое приближается ко второму?
— Мне кажется, чтобы объяснить, что я думаю по этому поводу, можно привести пример с теорией относительности А.Эйнштейна. Почти каждый мало-мальски образованный человек знает о ее существовании. Если же говорить о тех, кто действительно понимает ее сокровенный смысл, то круг очень сильно сужается. Вспомним рассказ о том, как к Эйнштейну однажды подошел некий ученый и доверительно сообщил, что на свете существует только два человека, понимающих теорию относительности. На что Эйнштейн, оглянувшись, ответил: "А где же второй?" Когда я думаю об этом, мне приходит в голову и известное евангельское изречение "Много званых, но мало избранных". Порой бывает так, что известность тот или иной автор получает в результате политических парадоксов. Так, например, мировая известность Б. Пастернака обусловлена прежде всего его романом "Доктор Живаго", в то время как это. по-моему, одно из самых его неудачных произведений. Могу назвать и других поэтов, ставших жертвами массовости. Среди них, в первую очередь, Андрей Вознесенский. Каждый парикмахер знает "Миллион алых роз", но понятия не имеет о его гениальной "Треугольной груше". А самый вопиющий пример — популярность Пушкина. Его имя настолько затаскано, что пробиться к поэту стало уже практически невозможно. Так, строчка Беллы Ахмадулиной "Стало Пушкина больше вокруг" — верх абсурда, но если ее вырвать из контекста и выявить смысловой сдвиг, то получится сюрреалистический китч, неосознанный, и тем более ценный. То же самое можно сказать и о тех примитивных полотнах советской поры, где художник пытается изобразить русалку или Пушкина, прогуливающегося по Болдинским аллеям. Кстати, все тот же Пушкин вполне мог бы восприниматься как герметический поэт, если бы не был так "захватан". Подходить же туда, где много народу, совсем не хочется. Вот и получается, что для того, чтобы пробиться, нужен китч. Что и осуществил в отношении Пушкина Синявский. Кстати сказать, я считаю, что поэт должен издеваться над массами, потому что зависеть от толпы — ужасно. Для Маяковского была трагедия, когда народ не пришел на его выставку, потому что у него все держалось на противопоставлении себя толпе. Должно быть холодное презрение, а не бабий восторг перед стаей. Ведь "человечество, общество, государство" — всегда обман, быдло, ведущее себя по закону жидкости...
— Кажется, не так давно в Швейцарии состоялась конференция, посвященная проблеме эроса в искусстве. Расскажите, пожалуйста, о ней, ведь Вы были ее участником.
— Конференция состоялась в 1989-м году в Лозанне и называлась "Секс в современной культуре". Что можно об этом сказать? Да прежде всего там было весело. Еще помню диспут, который затеяли по поводу русской культуры. Наши зарубежные коллеги уверяли, что русскому менталитету чужд эрос. Когда же я пытался приводить гримеры, доказывающие обратное, — а как же "Гаврилиада", или Барков, или те же заветные сказки? — мне отвечали, что это не эрос, а либертинаж (вульгарный разврат). Когда я там спорил, то был уверен, что прав, теперь же, когда хлынул такой поток либертинажа, начинаю сомневаться. Может быть, русской культуре в большей степени свойственна сублимация, когда все уходит в звук, в слово, благодаря чему язык приобретает особый смысл и звучание. Кроме того, на конференции я делал доклад, посвященный "Лонолету". Отнеслись к нему по-разному, но глаза у всех были квадратные. Именно там для меня рухнул еще один миф — миф о возможности коммуникации различных культур. Для меня стало ясно, что французы ничего не понимают в русской литературе и что слово, оторванное от своего времени и пространства, перестает звучать. Все-таки величайшая трагедия человечества — это Вавилонское столкновение языков, воздвигшее непереходимый барьер между нациями. Истинная поэзия всегда непереводима, и Пушкин, скажем, ценен для меня особенно тем, что его практически невозможно перевести на другие языки. Если же вернуться к "Сексу в современной культуре", то в результате я понял главное — серьезно о таких вещах можно говорить только шутя.
— Удалось ли Вам в последние годы опубликовать что-либо из своих теоретических работ, как обстоят дела с публикацией стихов и как вообще Вы можете охарактеризовать нынешнюю поэтическую ситуацию?
— Честно говоря, изоляцию, созданную вокруг меня, так и не удалось полностью разорвать. Вышли, правда, две книги моих стихов: "Верфлием" {М.. 1990) и "Компьютер любви", изданные, опять же, "за свой счет", но тиражи их ничтожны и книги практически недоступны читателю. Что касается правды о метаметафоре, то тут дело обстоит еще более странно. В 1989-м году увидела свет моя книга "Поэтический космос" ("Советская литература"). Это, видимо, было что-то вроде компенсации за историю с Литинститутом, но марксистское послесловие к книге профессора Куницына настолько не соответствовало ее содержанию, что, во многом, сводило на нет ценность публикации. Но самое интересное не эта. Практически весь тираж пропал в неизвестном направлении. Я даже не смог выкупить авторские экземпляры, которые незадолго перед моим приходом кто-то.,, унес. Я предполагаю, что большинство тиража было просто уничтожено КГБ. А про ме-таметафору до сих пор не говорится почти ничего. А ведь это довольно сложное понятие, связанное с теорией метакода, — единого кода вселенной, запечатленного в каждой вещи, во всем мироздании — ив созвездиях на небе, и в поэтических метафорах. Это непосредственно переживается человеком в определенный момент, когда он начинает ощущать, как мир как Бы выворачивается наизнанку, внешнее становится внутренним и человек вмещает в себя всю вселенную. Как писал П.Флоренский: "Когда предмет вывернется во вселенную..." В результате поэт осуществляет своеобразное раскодирование языка, когда звук тоже выворачивается наизнанку, обнажая новые, скрытые смыслы.
Что же касается сегодняшней поэтической ситуации, — то мне она представляется просто невыносимой, и постоянно ощущаю, что метаметафора попадает под двойной арт-обстрел: с одной стороны — тоталитаризм соц-арта, с другой — направление новых коммерческих редакционно-издательских структур. Даже "Гумфонд". и тот несколько враждебен по отношению к нам, я ощущаю с его стороны как будто инстинктивное отторжение. Мне до сих пор не удавалось высказаться в полной мере, но, как это ни парадоксально, я даже счастлив — это значит, что то, что я хочу сказать — настоящее, существующее в метапространстве, а это для меня — самое главное.
Интервью брала М.Максимова.
|
|